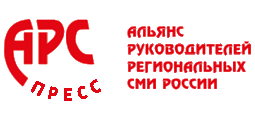Из нашей биографии
Александр ГИКАЛО: «Но как же без души и без сердца»Я помню, как все начиналось…Опечаленные очередным бесполезным походом в гор- и районо, мы с женой шли по главной улице Тихорецка. «Учительских мест ни в городе, ни в районе нет», — сказали нам. Я приехал сюда, проучительствовав год в Чечне, моя Люся только окончила университет. Оба — без места, а вместе — без средств и с ребенком на руках. И тут не иначе как Господь вложил в мои уста эту фразу. — А где тут у вас редакция? — спросил я у Люси, тихоречанки в отличие от меня. — Рядом, на Красноармейской.. Рассказала, как найти, а сама побежала домой — пора было кормить годовалого Стаса, который был под присмотром прабабушки. Я же пошел в редакцию. Полуподвальное помещение «Ленинского пути» нашел быстро. Немного помявшись, заглянул в приемную, спросил, здесь ли редактор, подсмотрел на табличке имя-отчество и открыл дверь. Сергей Николаевич Кучер — царствие ему небесное — мужчина был видный: всегда при костюме-галстуке, отглаженный, в сияющей белизной сорочке. Оторвал взгляд от полосы: — Заходите, садитесь, с чем пожаловали? — Да вот, — начал я, — приехал из Чечни, где работал после университета, учительского места в городе нет. Нет ли у вас хоть чего-нибудь для меня, хоть корректором? — А вы в газету когда-нибудь писали? — Да нет, не приходилось… — А письма девчатам? — Ну этого с избытком… Редактор задумался. Но ненадолго: — Есть у нас вакансия литработника в промышленном отделе. Но я даже не знаю, как без опыта… И тут уже не Господь, а я сам, по своей молодеческой наглости и самонадеянности, выдаю фразу: — Ну я все-таки филфак университета окончил, не абы что… — Ну ладно, раз так, — сказал Сергей Николаевич, — напишите автобиографию и приходите часов в шесть ко мне. Что это значило, я еще не знал, но летел к своим как на крыльях. Рассказал. Поудивлялись, но пришли к выводу, что неспроста редактор попросил что-то написать, видно, хочет посмотреть, что я знаю про «жи» и «ши». Уж как я старался — и чтобы грамотно, и чтобы слова уместно расставить, и чтобы запятушки на месте были. Вечером, как и было указано, явился. Сергей Николаевич прочитал и спросил: — Вы когда сможете выйти на работу? — Да хоть завтра. — Вот завтра и выходите. Иди и смотри…На следующий день я вышел «на работу». В кавычки беру не случайно — какой из меня работник в первый-то день? Но! Но заведующая отделом Тамара Трубицына, в чье подчинение я попал, спросила: «Ты всерьез или так, перекантоваться? Если всерьез, то я тебя буду учить; если так, то пусть оно идет как идет». Мой утвердительный ответ обернулся в мою же пользу. Газета наша была объединенной, четырехразовой, для города и района, но по сути той же районкой. А в районке как? Думать, конечно, надо, но не долго. Утром побежал на завод, на стройку, к полудню должен выдать материал — народу мало, а в полосе дырка. Потом поработать на первую, что-то придумать в запас, с кем-то договориться о завтрашней встрече. И так каждый день. Тамара меня гоняла: «Не сиди, иди и смотри, говори с людьми, вникай в тонкости, обращай внимание на мелочи, которые людей волнуют…». И я дотошно расспрашивал на месте, как из опоки в литейке завода имени Воровского вылущивают литье, до какого этажа достает на стройке рукав растворного насоса, приставал к бригадиру штукатуров с вопросом, почему именно эту профессию она выбрала, вместе с рабочими «Красного молота» смотрел выступление в рабочий полдень артистов «Кабачка»… Мне это было интересно. Вот-вот, сам и наскочил на одно из слагаемых профессии журналиста: никогда не будет твое газетное творение наполнено смыслом, если будешь смотреть на событие или явление жизни свысока, выступать этаким беспристрастным судией, если не станешь вровень с героями, если без интереса будешь взирать на человека и его дело. Так что урок Тамары Трубицыной, к которой судьба отнеслась не так уж и благосклонно и которую я годика через два обогнал по должности, остался со мной на всю жизнь. Ответственным секретарем редакции работал Иван Иванович Федоренко. Человек удивительный. Его личность и судьба — тоже к вопросу о журналистах и журналистике. Честно говоря, завидую окончившим журфак. Хотя прекрасно понимаю, что не он все-таки учит ремеслу. Вот Иван Иванович — дальневосточник, но говорил с ярко выраженным украинским акцентом, имел только десятилетку в «академическом» портфеле. При этом удивительно тонко чувствовал язык. Как мне кажется сейчас, он на вкус воспринимал стилистику, точное слово, мудрую вязь нашего родного русского. Была у него забава: выправит неудачный материал так, что черно от пасты, покажет тебе и вешает этот шматок бумаги на им же и сооруженную «черную доску». На часок. Но бывало и другое: заходит в кабинет и держит твой оригинал в руках: «Саша, ну ты так написал, так написал, что я ни одного слова не вставил и не вычеркнул». А у самого слеза в глазу. Так трогательно он относился к слову. И позже, когда я сменил его на посту ответсекретаря, да и вообще, когда брался за материал, помнил и помню и этот урок: нет журналиста без внутреннего ощущения слова, а если хотите, то без ответственности за каждое, вплетенное во фразу. Твое слово — это ты сам: насколько оно точное, выверенное, значимое, настолько и можешь считать или не считать себя журналистом и просто профессионалом-газетчиком. Знатоки и дилетантыВообще, говорят в шутку, что журналистика — в принципе профессия дилетантов. О чем только не приходится писать: сегодня о депутате и законотворчестве, завтра — о концерте Казарновской, а потом — про краснодарский самострой. Такова специфика газетной работы. Есть, конечно, специализация. Лучше нашего Федора Безрука о селе никто в крае не напишет, потому что он знает АПК и людей. Нашему Виктору Анфиногенову нет равных в российской спортивной журналистике, Ольге Цветковой — в социальной, с Игорем Сизовым никто не сравнится в знании курортной тематики, и так далее. Но любой, подчеркиваю, любой обязан поднять нужную «Вольной Кубани» и читателям тему из самой далекой, казалось бы, области. Это условие работы в газете, это требование нашего главного редактора: можно назвать это и компетентностью, что тоже относится к базовому требованию профессии. Так что дилетанты-то дилетанты, а ронять себя незнанием нельзя. — Знаешь, — иногда раздается внутренний звонок от главного, — хочу посоветоваться. Зайдешь?. Конечно, зайду. — Ты понимаешь, все есть в материале — и факты, и события, — это уже Ламейкин в его кабинете, — а позиции газеты здесь нет. Да и автор не виден. Надо что-то делать. Что в тебе самом?И ведь действительно надо что-то делать. Сейчас много спорят о том, какова главная функция прессы: по западному образцу только дать информацию, а читатель пусть сам размышляет — или все же важна аналитика, отношение к факту и явлению жизни? «Вольная Кубань» настойчиво идет по второму пути. Кто же поверит журналисту, когда он, как чужак, отстранен, не сопереживает, не обозначает свою причастность? И кто поверит такой газете? Не хочется банальностей, но как же без души и сердца? И это снова о профессии, без этого журналистики нет, выбрось этот камешек — и останется статистика! Нет журналистики и без ответа на вопрос «Для чего?». Для чего ты все это пишешь? Этот вирус поразил, к сожалению, ныне многих: бухаем в колокол, а потушат пожар или нет — это уже не наше дело. Помню шутку бывшего собкора нашей «Советской Кубани» Ивана Мачнева. Он заходил в редакцию и спрашивал всякий раз: «Когда вы работаете? Как ни приду, а вы все пишете и пишете!». Шутка шуткой, но смысл глубокий. Работа наша — не только подготовка материала. Журналистика без понимания, как твое слово отзовется, — это сотрясание воздуха. Да, может, кому-то, в том числе и чиновникам от власти, острая публикация пощекочет нервы, но не более. И потому в ранг редакционной политики «Вольной Кубани» возведен принцип пролонгированной ответственности: поднял проблему — добейся ее решения! Сложно это в наши дни, хлопотно, порой скандально. У тех, кому приходится отвечать через газету людям, от настойчивости «Вольной Кубани» вряд ли светятся радостью глаза. Но газета — полпред человека, важнейший инструмент гражданского общества, о развитии которого говорят много, но этот процесс пока что тормозится. Она обязана брать на себя ответственность быть связующим звеном между людьми и властью. В конце концов, это элемент контроля действий власти от имени народа. Не понимающая этого власть в целом и ее представители в частности, воспринимающие выступления газеты только как выпад против них, — ущербны по сути. Что же в итоге? Чиновничество вынуждено прислушиваться к газете, вынуждено отвечать на статьи и письма. И это самый подходящий глагол, потому что «Вольной Кубани» пока что приходится многих понуждать к этому, вынуждать считаться с людьми. Это тоже часть журналистики, которую, если хотите, можно назвать ответственностью перед читателями. Без нее журналист — ничто. Можно порхать от цветка к цветку, собирая нектар, но он когда-то кончится, если забыть о корнях… Делай что должно!Владение профессией — важная, но всего лишь часть журналистики. Быть грамотным, уметь добыть информацию, внятно ее изложить — навыки профессионала. Их достаточно, чтобы работать в газете, но мало для настоящей журналистики, к которой обязывает работа в «Вольной Кубани». Истину эту открывают самые обыденные вещи. Скажем, при устройстве на работу к нам неуместно задавать главному редактору вопрос: «А на какие темы надо писать в этом отделе?». Ответом соискателю может быть разъяснение, что он, претендуя на место, может получить только одно задание: писать о жизни. А уж какие ее стороны требуют его осмысления — это показатель уровня человека, его включенности в жизнь, его заинтересованности, его ответственности. А могут обойтись и стандартным: «Мы вам позвоним». И вот тут в самый раз сказать о созданных историей, практикой, внутренней и внешней политикой газеты творческих возможностях «Вольной Кубани». И снова я не о ремесле, а о журналистике. Нет ее без свободы — внутриредакционной и общественной. Но весь вопрос в том, где начинается и где кончается эта самая обаятельная и привлекательная гражданка Свобода. Как для издания, так и для человека пишущего. Можно начертать на титульном листе газеты «независимая» и снять с себя все ограничители. А заодно и ответственность. Цензуры-то нет, не все и под властью, диктующей заданность тематики, ходят. Да и нравы нынче не так строги. Гуляй — не хочу. Раззудись, плечо… В том-то и дело, на мой взгляд, что это как раз и не имеет никакого отношения к свободе печати и независимости. Вот здесь я соединю журналиста и издание, потому что это как бы единое целое — и требования едины. Не могут они работать без внутреннего цензора. Именно он выставляет вешки тематики, общественной значимости публикаций, определяет понимание, что во вред людям, а что на пользу, обозначает прежде всего нравственные, следом — мировоззренческие, политические и иные ориентиры. Нет без этого журналистики и журналиста. Что же касается «Вольной Кубани», то здесь есть этот внутренний цензор, но тебе не говорят: «Делай так!», а просто: «Думай и делай!». Не самый лучший пример — собственный. Но в течение 20 лет, что выходит моя авторская колонка в «Вольной Кубани» под рубрикой «Политдень» или масштабный «Политобзор», ни разу (!) не было, чтобы главный редактор требовал или настаивал на согласовании темы, на определенных условиях ее освещения. Впрочем, как и по другим материалам. Не о себе сейчас говорю, а о редакционной политике. Да, мы спорим порой, обсуждаем, определяем позицию, сверяем шаги. Но тема, ее подача — это выбор автора. Лично для меня, если иметь в виду творчество, ценнее этого в независимой газете ничего нет. Это дает возможность расти, быть самим собой, то есть личностью, но в то же время встроенным в команду, быть замеченным и отмеченным коллегами и читателями.
Раздел : СМИ, Дата публикации : 2024-01-12 , Автор статьи :
|